Интервью
«Диссонанс вызывает у нас физическое напряжение»: Марина Корсакова-Крейн о восприятии музыки
Музыка остается самым загадочным искусством — в том числе и с точки зрения психофизиологии восприятия. «Теории и практики» поговорили с нейрофизиологом Мариной Корсаковой-Крейн о разных версиях происхождения музыки, синестезии и связи между способностью различать структуру мелодий и пространственным мышлением.
— В каком плане мы можем говорить о визуализации музыки?
— Исключительно метафорически. Перед теми, кто серьезно занимается музыкой — и особенно перед теми, кто играет сложные музыкальные произведения, такие как соната или фуга, — стоит задача «выстроить» форму произведения, и музыка, таким образом, представляется им в пространственных терминах. Мы имеем дело с совершенно фантастическим интуитивным искусством, в котором как бы не за что ухватиться разумом, — никаких знакомых видимых образов, никаких объясняющих слов, — только потоки звуков. И вот в этом чувственном, абсолютно интуитивном искусстве мы обнаруживаем прекрасные конкретные формы: метафорическая визуализация музыки происходит за счет того, что в ней есть структура.
Если посмотреть, что происходит в полифонии, то можно увидеть схожесть с гравюрами Эшера. Например, в его гравюре «Всадники» изображена череда черных всадников и встречная череда белых всадников, и таким образом из силуэта всадника составлено все пространственное художественное поле. В музыке, а именно полифонической музыке, существует подобное явление, когда практически все произведение базируется на какой-то одной «строительной единице».
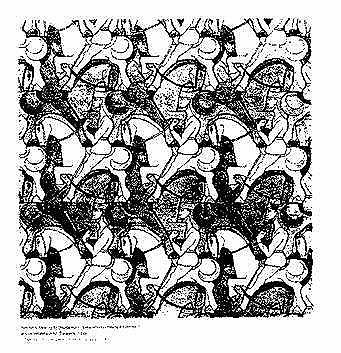 |
| М.Эшер "Всадники" |
Другой подход к визуализации музыки происходит через рассказ об устройстве мелодического пространства. Когда мне впервые привелось объяснять студентам-архитекторам, что из себя представляют музыкальные формы и пространство, которое эти формы содержит, я использовала идею гравитационного поля. Если играть обыкновенную гамму, то мы будем ощущать, что предпоследняя нота хочет «упасть» к конечной ноте, что предпоследняя нота сильно притягивается к заключительной ноте гаммы — тонике. Для гаммы, как системы отсчета в музыке, совершенно неважно, насколько громкая эта заключительная нота и какая у нее звуковысотность и тембр. Для гаммы важно только ощущение уровня тонального притяжения. В мелодиях и гармониях мы улавливаем неустойчивые и устойчивые элементы — как в силовом поле. Из звукового потока неустойчивостей и устойчивостей и состоит музыка. Если бы все было устойчиво, не было бы музыкального движения.
И еще удивительно то, что в музыке очень немного основных «строительных материалов» — как ни в одном другом искусстве. В музыке всего семь основных элементов, которые называются диатоническими тонами: например, в гамме до мажор белые клавиши являют собой диатонические тона, а пять черных клавиш — так называемые хроматические тона. Хотя на рояле 88 клавиш, они представляют собой циклическую организацию тех же самых основных тонов. Когда я учу детей игре на рояле, я им объясняю, что в музыке всего семь основных нот и ноты эти отличаются по тому, насколько они притягиваются к друг другу. Дети, кстати, прекрасно понимают разницу в тональном притяжении.
Музыкальные теоретики называют эти различия в силе притяжения «тональной иерархией». В обыденной жизни мы называем тональную иерархию гаммой. Именно различия в притяжении нот гаммы к тональному центру (первой ноте гаммы) и образуют для нашего разума систему отсчета. Слушание музыки — это навигация в пространстве силовых линий тонального поля. Наш мозг считывает звуковой рисунок тональных напряжений (неустойчивостей) и тональных разрешений (устойчивостей), из которых образуются мелодии и гармонии. Именно тональное силовое поле формирует, «лепит» мелодии и гармонии.
Когда мы слушаем мелодию, мы воспринимаем ее как цельный объект в тональном пространстве. Больше того, мы даже можем узнавать эту мелодию, когда она слышна с разных «точек зрения» в тональной системе отсчета. И вот это и есть, пожалуй, самая мощная визуализация музыки.
Сейчас идут разговоры о том, каким образом можно объяснить мелодии математикой. Музыкальные психологи, в компании с математиками, создали геометрическую модель 12-тонового пространства в виде торуса — геометрической фигуры, напоминающей бублик. Но вот как подобраться к мелодиям и мелодическим трансформациям? Этот вопрос ставит очень и очень интересную задачу. Если восприятие музыки действительно основано на аналоге силового поля, то, скорее всего, мы имеем дело с фундаментальным принципом сознания, работающим за пределами восприятия мелодий и гармоний. Другими словами, если нам удастся получить математическую формализацию мелодий и увидеть мелодическую топологию, то это, скорее всего, поможет объяснению того, как работает наш мозг. То, что строительный материал музыки очень экономичен — семь основных (диатонических) и пять дополнительных (хроматических) тонов, всего 12 тонов, — должно быть чрезвычайно привлекательно для математической формализации.
— Если мы говорим о музыке как о пространстве, то можно ли говорить о звуках как об объектах, а о ритме — как о времени?
— Звук в музыке это не объект. Скорее, мелодия целиком — это объект. Хотя любая знакомая мелодия и выстроена из отдельных нот, наш мозг воспринимает ее как единое целое. То есть силовое поле мелодического пространства собирает разрозненные мелодические элементы в единую форму, образуя свою, специфическую для каждой мелодии топологию в тональном пространстве.
В музыке тональное поле и время неразделимы. Если я сыграю несколько нот одновременно (нажимает несколько клавиш одновременно — прим. автора), то будет непонятно, какая мелодия заключена в этих нотах (играет те же ноты в разных последовательностях, так что получаются разные мелодии — прим. автора). Все зависит от того, в каком порядке и в каком ритме ноты следуют друг за другом. То есть мелодические рисунки очень сильно контролируются стрелой времени.
— Почему именно тональное поле, откуда оно берется?
— Понятно, что в музыке мы имеем дело с физикой звука и его взаимодействием с человеческой нейрофизиологией. Ведь мы принадлежим природе. Звук — это физическое явление, и естественно предположить, что наша нейрофизиология и физика окружающего мира где-то встречаются, пересекаются. Мы приспособлены для того, чтобы воспринимать мир. Наши воспринимающие устройства — нос, кожа, уши, глаза — существуют для того, чтобы воспринимать и оценивать происходящее вокруг нас. Наша нейрофизиология постоянно испытывает лавину информации.

«Любой естественный музыкальный звук — это на самом деле аккорд, даже если мы и ощущаем его как «частицу». У него есть свой шлейф обертонов, такой скрытый аккорд. Мы не воспринимаем его сознательно, но, судя по всему, та часть нашего мозга, что отвечает за обработку акустических сигналов, прекрасно в этих скрытых шлейфах-аккордах разбирается»

У звука есть очень интересная особенность. Когда мы слышим отдельную ноту, то мы ощущаем ее как «частицу». Собственно, музыкальные композиции и записываются такими нотами-частицами. Но на самом деле если, скажем, тронуть обыкновенную струну, то, хотя она и произведет как бы одинокий звук, струна при этом будет выглядеть размытой —из–за колебаний. А когда струна колеблется, она самопроизвольно делится на 2, 3, 4, 5 и так далее частей, и при каждом делении колеблющаяся струна производит легкий призвук — обертон. Другими словами, любой естественный музыкальный звук — это на самом деле аккорд, даже если мы и ощущаем его как «частицу». У каждого такого звука есть свой шлейф обертонов, такой скрытый аккорд. Мы этот шлейф обертонов не воспринимаем сознательно. Но, судя по всему, та часть нашего мозга, что отвечает за обработку акустических сигналов, прекрасно в них разбирается. Больше того, именно эти шлейфы и их взаимодействие образуют скрытое измерение обертонов, которое дает начало тональному силовому полю.
Самое убедительное подтверждение этой теории — способность нашей системы слуха улавливать скрытые аккорды в каждом отдельном звуке — в благозвучии так называемых пифагорейских интервалов. Их всего три: октава, квинта и кварта. Например, мелодический интервал октава воспринимается как один и тот же звук во всех мировых культурах, всеми цивилизациями. Скажем, когда папа и его маленькая дочка поют песенку вместе, то они, скорее всего, поют в октаву. Октава образуется самым первым (самым сильным) обертоном в шлейфе обертонов. Когда два звука образуют октаву, то это означает, что один из звуков повторяет первый обертон из обертонового шлейфа другого звука. Такая комбинация не должна особенно затруднять нашу систему слуха.
— Почему?
— Благодаря общей важной спектральной информации, а именно перехлесту самых начал обертоновых серий тех звуков, что образуют октаву. Другими словами, чем меньше усилий восприятия, тем приятнее мелодический элемент. По этой же причине приятны для слуха пифагорейские интервалы квинта (второй обертон в серии) и кварта (третий обертон). Закон лени во всей своей красе: чем меньше нейронных затрат на обработку сочетания музыкальных звуков, тем оно благозвучнее. Собственно поэтому пифагорейские интервалы и называются консонансами. Пифагорейские интервалы являют собой артистические универсалы в тональном поле, так как они наиболее легкие для восприятия. А все остальное являет собой более сложные для акустической обработки интервалы и аккорды. Таким образом, у нас получается некий градиент нейронных затрат: от минимума к энергетически более требовательным.
Недавно появились первые косвенные подтверждения этой гипотезы (градиента нейронных затрат на акустическую обработку мелодических интервалов). Ответы мозга на консонансные интервалы более когерентны, более собранны, чем ответы на неконсонансные интервалы. Собственно, рисунок любой информации образуется из некого перепада, из различий между элементами. В музыке мы имеем дело со взаимоотношениями между разными звуками. Но мы также можем сказать, что имеем дело с рисунком затрат нейроэнергии на обработку разных акустических сигналов. Скажем, нам поступает сигнал из двух нот, и эти две ноты таковы, что одна из них уже «сидит» в начале обертоновой серии другой ноты, и поэтому такое сочетание для нашего мозга будет легко обработать. Так что мы можем говорить о музыкальном произведении как о конфигурации нейронных затрат.
Если говорить об отдельно звучащих диссонансах и консонансах, то, когда мы слышим диссонансы, мы испытываем внутреннее напряжение — обычное физическое напряжение, — а когда мы слышим консонансные интервалы, мы чувствуем себя более расслабленно. То есть наши ответы на музыку очень примитивны. Из этих очень примитивных ответов получается невероятно сложное, утонченное, богатое эстетическими эмоциями искусство.
— Какова природа появления самой музыки?
— Есть разные гипотезы происхождения музыки. Например, гипотеза motherese (мамин разговор, сюсюканье). Мамы во все времена разговаривали со своими малышами особенным «маминым» говором и напевали при этом, и отсюда якобы и появилось пение, а за ним и музыкальное инструментальное искусство. По другой гипотезе — естественного отбора — тот, кто хорошо пел, считался более привлекательным партнером и имел преимущество в эволюционной селекции. Есть еще предположение, что музыка — это связующая сила для общества: когда люди вместе участвуют в пении или танце, это вызывает в них чувство единения.

У меня тоже есть теория происхождения музыки. Скорее всего, у музыки и разговорного языка один и тот же корень. На этом намекают работы Джакомо Риццолатти, итальянского ученого, который, кстати, говорит по-русски (его мама родилась на Украине). Риццолатти стал известен благодаря исследованиям в области зеркальных нейронов: это те нейроны, которые активизируются во время обозрения целенаправленных действий. Зеркальные нейроны еще называют «нейронами симпатии». Так вот, Риццолатти и его коллеги считают, что язык появился, когда определенные сложные звуковые сигналы стали ассоциироваться с определенными предметами и действиями. У музыки и речи один корень — звуки, издаваемые голосом. Когда произошла бифуркация (раздвоение) этого корня, то, с одной стороны, появилась лингвистическая определенность — конкретные звуковые символы для конкретных предметов и действий, а с другой стороны — мелодии. В обоих случаях присутствовал голос. Символическо-лингвистическое направление голосовой деятельности в итоге породило язык, а ее эмоциональная составляющая породила музыку.
Если посмотреть на спектральный анализ речи, то он выглядит как частый забор из фонем. Например, попробуйте сказать слово «приключение». Нашему мозгу приходится производить необыкновенно тонкий спектральный анализ, чтобы ухватить фонетические тонкости одного слова. Так вот, поверх этого частого забора из фонем идет плавная огибающая линия, которая отражает логическую интонацию речи. Если эту огибающую убрать, то произойдет совершенно отвратительное механическое, монотонное перебирание слов. То, как мы говорим, — это мелодия речи, ее эмоциональная составляющая, то, что помогает мозгу воспринимать сказанное. Обработкой речи и музыки занимаются оба полушария мозга. Но левое полушарие занимается более точной работой: ведь, чтобы понять слова, нужно очень точно выхватить все эти странные звуки: «пр», «кл» и «чен». А мелодическая обработка — она более приблизительная и происходит в основном в правом полушарии.
— Как мы слушаем музыку?
— Через некоторое время после того, как я начала давать лекции-концерты о силовом тональном поле и формах музыки в знаменитой школе архитекторов «Купер Юнион» в Нью-Йорке (это произошло в середине 90-x), мне в руки попалась книга британского философа Роджера Скрутона. В этой книге Скрутон дает элегантную и точную формулировку тональной гравитации. Он говорит о том, что есть акустическое пространство — пространство звука, где нам важны высота, тембр, громкость и продолжительность звука, то есть его физические характеристики. А в музыке пространство другое — акозматическое пространство слышания тональных отношений. Скрутон приводит цитату Ямбиликуса о Пифагоре и его учениках. Ученики Пифагора называли себя акозматикой, то есть теми, кто слушает. Пифагор читал свои лекции из–за занавеса — он не хотел отвлекать учеников своим видом. Ему было важно, чтобы они слышали, о чем он говорит. Так вот, в музыке мы абстрагируемся от физической природы звука: нам интересны взаимоотношения между нотами. Конечно, музыка — это искусство звука. В ней необходима вибрация, в ней происходит восприятие акустического сигнала… Но, когда мы слышим мелодию, мы в первую очередь слышим взаимоотношения между тонами. Музыка — это взаимоотношения тонов, распределенных вдоль стрелы времени.
— Известно ли, где именно в головном мозге происходит восприятие музыки?
— Мы знаем, где происходит восприятие тонов. Для этого у нас есть первичные слуховые зоны в височных долях (на самом деле обработка слухового сигнала начинается еще раньше, в древнейших участках мозга). Мы знаем, где происходит обработка звука и какие участки мозга важны для речи, поскольку мы знаем, при каких поражениях мозга у нас нарушается способность произношения слов и восприятие речи. Есть так называемый «центр Брока» и «область Вернике», которые участвуют в восприятии лингвистического языка. Но каким образом мы воспринимаем музыку, где происходит это самое волшебство, когда из отдельных звуков получается мелодия? По этому поводу я предложила гипотезу супрамодальности в музыке, которая стала темой моей первой диссертации.

«Скорее всего, восприятие музыки задействует те нейронные сети, которые эволюция отшлифовала для нашего выживания. Известно, что у музыкантов в определенных участках мозга плотность серого вещества более высокая, чем у немузыкантов. Один из таких участков, в теменной доле коры головного мозга, важен для пространственного мышления»

Гипотеза супрамодальности предлагает, что у нас нет нейронных сетей, созданных эволюцией специально для восприятия музыки, поскольку музыка для человеческой эволюции слишком молодое явление и она не особенно помогает нам в выживании. Скорее всего, восприятие музыки задействует те нейронные сети, которые эволюция отшлифовала для нашего выживания. Известно, что у музыкантов в определенных участках мозга плотность серого вещества более высокая, чем у немузыкантов. Один из таких участков, в теменной доле коры головного мозга, важен для пространственного мышления. Кроме того, у музыкантов рисунок активизации мозга во время решения некоторых пространственных задач отличается от рисунка активизации у обычных людей. И, потом, мы знаем, что у амьюзиков (людей, неспособных к восприятию музыки вообще, то есть не способных узнать какую-либо мелодию) есть проблемы с пространственным воображением.
Мы знаем, что наши теменные доли отвечают за пространственное воображение, восприятие речи и математические способности — то есть за абстрактное мышление. Моя гипотеза состоит в том, что в этих участках коры головного мозга также происходит восприятие мелодий и мелодических трансформаций. Скорее всего, во время восприятия музыки происходит отрыв от просто акустической информации, так что наш мозг становится занят отношениями между тонами как конфигурацией однородных элементов. Другими словами, наш мозг становится занят энергетической конфигурацией. В этот момент сумма составляющих элементов — музыкальных звуков — преобразуется в цельность и отдельные звуки преобразуются в осмысленную мелодию. Этот процесс являет собой ориентацию в поле тональной гравитации.
Чтобы проверить свою гипотезу, я подготовила эксперимент, в котором сравнивалось восприятие зрительной задачи наподобие трехмерных геометрических объектов (отобранных из коллекции рисунков для знаменитого опыта Шепарда-Метцлер) и наподобие мелодий (отобранных из полифонических произведений Иоганна Себастьяна Баха). И получила славные результаты. Они показали, что те, кто хорошо решал задачу на пространственное мышление, так же хорошо справлялись с задачей на мелодическое мышление, то есть результаты показали положительную корреляцию между мелодической и визуальной задачами.
Но тут меня ждал неприятный сюрприз. Мое диссертационное предложение было отвергнуто без особых объяснений. И это было довольно тяжело, поскольку к тому времени я провела большое исследование, протестировала почти 300 человек. Тем не менее исследование принесло новые интересные данные. Во-первых, найденная положительная корреляция говорила о том, что у некоторых людей распознавание любых рисунков информации получается лучше, чем у других. Некоторые люди от природы умнее, чем другие. Есть такие понятия — «текучая» сообразительность и «кристаллизованная» сообразительность. Текучая сообразительность (fluid intelligence) — это то, с чем мы рождаемся: некоторые детки рождаются умнее, чем другие. А кристаллизованная сообразительность (crystallized intelligence) — это наша способность обучаться и использовать то, чему мы научились. Прошло три года после провала первой диссертации, и нейрофизиологическое предсказание моей гипотезы было подтверждено: действительно, восприятие мелодических трансформаций задействует области теменной доли.
— А что насчет памяти? Мы помним мелодию, но не всегда можем вспомнить, как она изменялась.
— Это, конечно, был риск — давать участникам эксперимента задачу на мелодическое подобие. Всякую мелодию можно представить как линию идущую то вверх, то вниз. Участники эксперимента запоминали мелодический контур и потом использовали его как модель для распознавания мелодического подобия. Мелодии были трех типов. Некоторые из них были «изогнутыми». Это как бы вид на мелодию «с другой точки зрения». Другой вид мелодического преобразования это «отражение». Если каждое движение в мелодии меняет направление на противоположное, то получится ее зеркальное отражение. Изогнутая и отраженная мелодии представляют собой мелодическое подобие, конгруэнтность, а вот неполное, несистематическое отражение — это неконгруэнтное преобразование. Неожиданно было то, что способность хорошо распознавать мелодические преобразования не зависела от музыкальной подготовки (на самом деле это утверждение справедливо для мужчин; женщинам подготовка помогала). Судя по результатам моего эксперимента, для некоторых людей совершенно неважно, визуальный ли объект поворачивается в пространстве, или мелодия «поворачивается» в тональном пространстве.
К вопросу о памяти: существует так называемое «число Миллера», 7 ± 2 , которое являет собой оптимальное количество элементов для мысленной манипуляции. Если посмотреть на рояль, то мы увидим повторяющийся рисунок из семи белых клавиш и пяти черных клавиш. Кроме того, в нотной записи пять линеек. Музыка замечательно иллюстрирует число Миллера. И еще одно замечание. Психологи считают, что уровень интеллекта зависит от способности концентрировать внимание на главном.
— Поговорим о синестезии — как она возникает?
— Синестезию очень трудно изучать, потому что она субъективна. Судя по существующим данным, женщин-синестетов больше, чем мужчин-синестетов. По отношению к музыке задокументирован только один стабильный синестет — композитор Римский-Корсаков, для него определенные тональности обладали определенным цветом, в то время как Скрябин, написавший знаменитую «Поэму огня» («Прометей») с отдельной строчкой в партитуре для цвета, был, так сказать, идеологическим синестетом и волюнтаристически приписал цвет звукам.
В моем исследовании для «второй» диссертации (защищенной), я использовала чрезвычайно простой прием измерения эмоциональной интенсивности ответов на музыку, который учитывал синестезию, или, скорее, квази-синестезию. Например, музыканты привычно и свободно говорят о мелодиях и гармониях как теплых и холодных или светлых и темных. Именно эти прилагательные (в числе других) я и использовала для замеров эмоциональных ответов на движение в тональном пространстве. Ответы участников этого эксперимента прекрасно совпали с тем, чему учат учебники по музыкальной теории и функциональной гармонии. Эти результаты говорят о том, что люди без всякого специального музыкального образования прекрасно разбираются в тонкостях тонального поля. И это естественно, потому что искусство музыки абсолютно интуитивно. Нам не надо получать дипломы, чтобы уловить тональное поле. Понимание основных элементов музыки дано нам от рождения: двухмесячные детки разбираются в диссонансах и консонансах. Музыка невероятно щедрое искусство.
— В синестезии участвует память?
— Нет, это совершенно инстинктивное восприятие. Память может привязываться к чему-то , но синестезия — это автоматическое восприятие. В синестетическом восприятии происходит смешение разных модальностей, например смешение модальности нюха и модальности слуха.
— В Турции живет слепой от рождения художник, Эсреф Амаджан. Он рисует масляными красками удивительно правдоподобные окрестные пейзажи, хотя глаза его всю жизнь остаются закрытыми. Он сам подбирает подходящие цвета и придает правильную форму окружающим его предметам на картинах. Может ли ему помогать в этом слух?
— Одна из моих знакомых, нейропсихолог Джойс Шенкейн, занимается восстановлением зрения при помощи активизации слуха у людей, ослепших в результате инсульта. Из исследований мозга мы знаем, что у слепых людей те участки мозга, что должны были принадлежать системе зрения, «переходят в распоряжение» системы слуха, что объясняет чрезвычайную остроту слуха у слепых.
Мозг — невероятно сложный механизм. Это потрясающе, как много нам дано — абсолютно всем. Мы все можем прожить столько жизней! Мы можем научиться рисовать, водить машину или самолет, вязать, работать на компьютере… Мы можем начать обучаться музыке в любом возрасте. Одна из моих студенток начала обучаться игре на рояле после шестидесяти и стала изумительной музыкантшей. То, что нам дано — каждому человеку, — это колоссальное богатство.
Комментариев нет:
Отправить комментарий